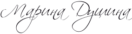Эссе “Тело как склеп”
Введение
В основу фильма Клаудии Льоса, снятого по книге Кимберли Тейдон «Между собратьями: внутренний вооруженный конфликт и политика примирения в Перу», положены ужасные события гражданской войны в Перу 1980 – 1992 гг. В результате военных конфликтов между представителями правящей власти и отрядами коммунистической партии «Сияющий свет», бунтов и массовых беспорядков жертвой жестокой расправы стало и мирное население: пожилые люди, женщины и дети.
В ленте рассказывается о судьбе одной из девушек по имени Фауста, отец которой был убит, а мать, будучи беременной – изнасилована солдатами. На приеме у доктора дядя только что осиротевшей девушки объясняет ее недомогание необычной болезнью: «Фауста родилась в разгар терроризма и мать через молоко заразила ее страхом, про таких как она говорят, что они вскормлены молоком скорби, и что душа их от страха спряталась в земле». Поводом для посещения больницы стал обморок и носовое кровотечение, как реакция на смерть матери Фаусты. Обследование показало, что внутри девушки находится проросший клубень картофеля. В столице Перу давно нет войны, но Фауста хранит память о ней внутри своего тела, таким диким образом защищаясь от насилия, совершенного однажды над матерью. Чтобы похоронить умершую мать, девушка устраивается горничной к богатой сеньоре. Там она познакомится с садовником Ноэ который сыграет определенную роль в ее жизни.
Цель данной работы: проследить, каким образом реальное травматическое событие в жизни матери вписалось в историю субъективации главной героини; исследовать особенности взаимодействия матери и ребенка и, как его последствие – сформировавшуюся не-невротическую структуру у главной героини фильма.
Гипотеза: диагностическая версия главной героини – меланхолия.
Анализ главной героини – Фаусты
«… наверное не женщиной ты был рожден, а бешенной собакой, поэтому ты растерзал ее, как растерзать теперь готов меня… Той ночью женщину, что вам сейчас поет, схватили негодяи. Меня они схватили и надругались надо мной, не пожалев мою дочурку, что еще не родилась. Ее они не пожалели и не устыдились того, что видеть она их могла из чрева моего. Схватили и насиловали, а потом, как будто этого им было мало, они засунули мне в рот член мертвый мужа моего, Хосефо, заставив проглотить его. От горя я кричала, моля убить меня и закопать вместе с моим Хосефо… Я не хотела больше жить на этом свете…»
Эта песня льется из уст уставшей, старой женщины, как молоко из «мертвой» груди. Зритель еще ничего не видит, словно его глаза закрыты, как у спящего младенца, но уже «впитывает» «молоко скорби».
О чем поет убитая горем женщина? Что пьет из ее «мертвой» груди младенец в лице зрителя? Она поет о жуткой садистической первосцене, в которой будущую мать убийцы мужа растерзали, как собаку, заставив проглотить «член мертвый» мужа и отца. Младенец «впитывает» желание матери быть погребенной, желание больше не жить на этом свете.
Когда песня затихает, давно неживая мать умолкает навеки. Ее дочь, Фауста, не кричит, на ее лице нет и следа нестерпимой боли, она лишь вновь стала свидетелем того, что уже произошло много лет назад. Она вышла во двор сообщить родным о смерти матери, но тут из носа пошла кровь, и она потеряла сознание. Носовое кровотечение, от которого она периодически страдала – как символ незаживающей, кровоточащей раны. А может как менструации, которые должны быть там, где покоится сморщенный клубень? Или как символ так необходимой сепарации?
Молодая девушка с красивым именем Фауста, что переводится как «счастливая», внешне создает впечатление болезненного аутизма: она замкнута, безэмоциональна, с бедной речью и мимикой, избегает контактов с внешним миром, Про таких как она говорят, что их «душа от страха спряталась в земле». Чем же она больна? Фауста «заражена» словами, которые она впитала с материнским молоком и которые позже превращаются в ее собственную бессознательную фантазию, заключенную в защитном симптоме [7:15]: «В тот день я видела все изнутри, я видела, что с тобой сделали, чувствовала твою боль. Теперь я ношу в себе картофелину, как затычку, как щит».
Влагалище Фаусты, как и все ее тело, сплошная могила, в которой заключены все трое: она, мать и отец. Юлия Кристева, описывая клинический случай меланхолии, говорила о теле-могиле и всемогущем пожирании, о ситуации, когда «быть мертвой» – это физический опыт, который первоначально не удавалось выразить. Абсолютное бессилие, остающееся при этом всемогущим, как уловка для сохранения своей жизни по ту сторону кастрации и дезинтеграции [3:85-86]. Так и Фауста, – не просто вынашивала внутри своего влагалища, своего тела психическую боль, она орально поглотила мать, держала ее внутри себя самой чтобы не разлучаться никогда. «Никто другой не может занять ее место, она больше непроницаема, а ее вагина мертва» [3:88, 90].
Для того, чтобы перевезти тело матери из трущоб столицы и похоронить ее в родной деревне, нужны деньги. Фауста вынуждена устроится на работу горничной в «доме наверху». Есть дома внизу – есть наверху. Есть богатство – и есть нищета. Жизнь и смерть, боль и радость, достойные жемчугов и отбросы.
Режиссеру прекрасно удалось передать вечную диалектику человеческого бытия и провести в фильме параллели красивого и низменного, цветущего и разлагающегося. На фоне свадебного балагана и праздничных церемоний мы видим, разлагающееся умершее тело; вот молодая девушка примеряет белоснежный свадебный наряд и позже мы видим, как женщины бальзамируют тело покойной и кутают ее в старые полотна, словно мумию. В день помолвки сестры Фауста входит к себе в комнату, где как обычно ее ждет тело умершей матери, но на этот раз она обнаруживает в своей постели свадебное платье – кто-то спрятал тело матери на время праздника под кроватью. «Смерть неизбежна, – сказал как-то девушке садовник, – остальное – по нашему желанию». Но девушка не желает отпускать мертвую мать. Ее комната и постель, это все – метафоры «Я», в том числе ее телесного «Я», – душа и плоть, – которые содержат в себе как в крипте нарциссически инвестированный мертвый объект, отделение от которого представляется сложным. Ведь «инвестировать нарциссически объект означает инвестировать себя самого в зеркале объекта… признать потерю объекта означает признание потери себя самого» [5:136].
И нет того, кто мог бы помочь отделяемости либидо и реинвестиции другого объекта, сепарации от желания матери – отца. Он тоже мертв, его член «проглочен»:

Кадр из фильма. Режиссеру потрясающе удается передавать глубокий смысл драмы посредством простых символов. Данный кадр можно прочитать в разных вариациях, от простого и что на поверхности, как например: страх сексуальных отношений, отказ от сексуальных отношений с мужчиной, или к более глубинному смыслу, как: отец мертв, его функция проваливается; другой/иной не может появится, другой в смысле «более-чем-мать», как писала Ю. Кристева, способный растворить заточенную внутри мать, наделить даром новой жизни. Фаусте не встретился тот, кто бы выполнил роль «Вещи» и «Объекта» и вывел из заточения, заставил ее инвестировать свой аутоэротизм в наслаждение другим (отдельным, символическим, фаллическим) [3:91].
История Фаусты, да и судьба ее влечений, если можно так выразиться, обретают новый вектор, когда она приходит на работу в «дом наверху» к сеньоре Аиде (был ли вложен режиссером смысл в имена героев, или выбор был случайным, но тем не менее интересно и их значение. Аида, в зависимости от версии происхождения, означает «вознаграждающая», «заменяющая», «мрачная», «орлица»).
Их знакомство произошло в спальне хозяйки, когда та вешала на стену портреты, имеющие отношение к истории ее семьи. Сеньора попросила Фаусту подержать дрель, которая символически крупным планом появляется в кадре, и дальше фокус нашего внимание переключается на портретное фото некоего мужчины в военной форме, который мог быть отцом или мужем сеньоры и, кроме того, участником одной из враждующих сторон военного конфликта.
Мы видим застывшую с дрелью в руках Фаусту, которая смотрит на свое отражение в стеклянной поверхности портрета. Ее вдруг стошнило, и она убегает. Она, с дрелью в руках, сама дрель по себе, мужчина в военной форме – все это словно вернуло ее к фантазиям-воспоминаниям об ужасной садистической сцене, жертвой и «свидетелем» которой она была. Дальше одно за другим следуют симптоматические действия: сначала девушка пытается снять тревогу с помощью песни: «Будем петь красивые песни, чтобы скрыть свой страх. Притворимся, что все в порядке». Но этот ритуал не помогает, и она переходит к следующему действию: Фауста маникюрными ножницами состригает ростки картофельного клубня, которые, как говорил доктор, торчат из влагалища.
Кажется, клубень совсем не причинял неудобств девушке. Ее могли беспокоить слабость, головокружение и носовые кровотечения, пугали общение с мужчинами и прогулки без сопровождения, но не картофелина во влагалище. Ведь это не просто картофелина. Она не что-то отдельное и чуждое, и даже не затычка, как считала сама Фауста. Она есть то, вокруг чего структурировался не-невротический субъект, его фантазм и дальнейшая судьба. Часть истории, часть «Я». Клубень картофелины сверхинвестирован и нагружен смыслами. Это и ее «мертвая» мать, – проглоченная, инкорпорированная, – с которой Фауста идентифицировалась; это проглоченный «член мертвый» мужа матери и отца Фаусты; это она сама, та самая «дочурка, что еще не родилась, которую не пожалели и не устыдились того, что видеть она их могла из чрева». Символическое обрезание ростков картофелины – это также необходимый симптом, защита от безумия.
«Мать через молоко заразила ее страхом, про таких как она говорят, что они вскормлены молоком скорби, и что душа их от страха спряталась в земле». Как случиться могло это заражение, в реальность которого не поверил доктор? Фауста воплотила в своем теле смерти-желание матери, которая молила убить ее и закопать вместе с ее Хосефо: «Я не хотела больше жить на этом свете». Дочь идентифицировалась с «заразными» словами матери, став ее желанием, означающим, воплотившемся в реальном той роковой фразой [7:15].
Много раз в фильме появляются кадры, который, как мне кажется, могли бы означать «утробу матери с мертвым ребенком», «заживо погребенного ребенка», и «ребенка, который все-таки жив», «ребенок, которого земля так и не смогла поглотить», «жизнь все же возможна».
Мне кажется, для Фаусты эти «встречи» со «знаками» являются своего рода интерпретациями, символизацией того, что ей сложно было все это время представить:

Фауста видит во дворе яму. Она бежит к ней, скорее всего ожидая увидеть там тело мертвой матери, которую дядя собирается похоронить, но она видит живых, радостно смеющихся детей.

Фауста в ритуальном бюро. Наше внимание привлекают ножки малыша. Первая мысль «Он мертвый?», но потом мальчик вдруг вскакивает – он все же жив.

Сеньора Аида поливает сад и вдруг обнаруживает на клумбе куклу: «Это кукла, которой я играла в детстве. Мне говорили, если закопать ее – она уже никогда не найдется, потому что земля ее проглотит».
Сепарация берет свое начало в трауре. Но у Фаусты этот траур невозможен. Утрата никак не случится, потому что «проглоченная» мать, которая никак не умрет – держит в плену; дезинвестиция ребенка матерью оставила «психическую дыру», которая заполняется реинвестициями деструктивного характера[1].
Невозможно отделиться от другого, если ты не знаешь, каким объектом-а ты был для этого другого [7:39].
Безусловно, некоторые сцены приходится самостоятельно домыслить, так как в фильме нет эпизодов, скажем, кормления маленькой Фаусты, ее взросления, детства, отношений с матерью. Есть лишь трагическая история в песне, которую мать оставила перед смертью, есть симптомы Фаусты, исследуя смысл которых можно лишь что-то предполагать. И я могу предположить, что Фауста перестала присутствовать в желании матери еще до ее появления на свет. Точнее, она присутствовала, но скорее всего уже не тем розовощеким малышом, с пухлыми губками и красивыми глазками. Фауста появилась на свет из утробы уже «неживой» матери – убитой горем, которая оставила младенца и отправилась в «могилу» вслед за мужем. Тело Фаусты как склеп, хранящий в себе мертвых родителей. Сама Фауста родилась «неживой», поскольку была лишена материнских инвестиций еще до своего появления – «умершая мать» не стала источником нарциссизма новорожденному, который оказался давно покинутым.
«Не имея возможности устранить мертвого и решительно признать: «его больше нет», скорбящий становится им для себя самого».[2]
Садовник Ноэ («безопасность», «успокаивающий», «умиротворяющий») на фоне трущоб, разлагающегося тела покойной матери, холодной и жадной хозяйки, «грязных» помыслов мужчин, – становится чем-то совершенно иным. Действительно безопасным и умиротворяющим, живым, тем, кто не разрушает, а взращивает и дает надежду. Это живой идеальный отец, которого не было, тот, кто может указать другой путь. Тот недостающий третий агент в жизненно необходимой операции. Тот, кто может быть объектом переноса и, наконец, «подарить» то, что не подарила мать: ребенка, новую жизнь.
Надеждой на новую жизнь становится жемчуг. Сеньора Аида пообещала Фаусте драгоценные бусины в обмен на песни. Жемчуг в обмен на сморщенный клубень картофелины. В Древней Греции считалось, что жемчуг принадлежал богине любви Афродите, как символ невинности, чистоты, девственности и женского сокровища.
Но хозяйка обманула Фаусту, не заплатив ничего, просто выбросив ее из машины посреди шумного ночного города.
Однажды, в ночь после свадьбы сестры, когда Фауста уснула, ее дядя подошел сзади и закрыл ей рукой рот и нос так, что она не могла дышать. «Видишь, как ты хочешь жить! Хочешь, но боишься. Так живи, живи, Фауста!» – он залился слезами, а испуганная девушка убежала прочь, в «дом наверху», чтобы забрать то, что принадлежит ей, то, что было отнято когда-то: чистота, невинность, женское сокровище – жемчуг, который станет платой за погребение усопшей матери.
Садовник нашел ее лежащей на улице без сознания, с жемчужинами в кулаке. «Пусть ее вытащат оттуда!» – умоляла девушка садовника. Ноэ отнес Фаусту в больницу, где ей сделали операцию и извлекли клубень. Благодаря появлению «отца», «мертвую мать» удается «извлечь», удается сепарация.
Фауста наконец смогла похоронить свою умершую и «мертвую мать».

Цветок в горшке – подарок от садовника. Живое пришло на место наконец-то утраченного. Цветок, как символ дара от отца, продолжения жизни, живого объекта (вместо «мертвого» клубня).
Выводы
На основании вышеизложенного анализа субъекта главной героини, исследования теоретического материала, я прихожу к выводу, что в данной истории имеет место клиника пустоты. Безусловно, мы имеем возможность проанализировать лишь то, что представлено в сюжете фильма: трагедия, о которой мать поет песню, и уже взрослая Фауста, которая боится повторения насилия и издевательств, поэтому таким вот диким образом «защищает» влагалище клубнем картофеля.
Причиной формирования у главной героини не-невротической структуры – меланхолии – стал не просто опыт жестокого насилия, но и то, к каким изменениям в психике матери он привел. Многим аналитикам приходилось работать с пациентами, в чьей истории из поколения в поколение могут передаваться ужасы войны, геноцида и террористических режимов, когда история семьи и даже целого народа становится уже личной судьбой. И как писал Дэвид Розенфельд «травматический опыт ребенка, неподготовленного к ожиданию опасности, столкнувшегося с ужасным, резким исчезновением матери и отца, очень тяжело поддается проработке. Этот травматический опыт остается навсегда высеченным в детской восприимчивой психике…».
Именно так произошло и с Фаустой, появившейся на свет уже у «мертвой матери», которая единственное, чего желала – это быть похороненной в земле вместе с убитым мужем, о чем она скорбела в песни до конца своих дней. В результате слишком ранней и радикальной дезинвестиции ребенка, в бессознательном дочери остался след в виде “психической дыры”, которую только и можно заткнуть, орально проглотив мать, чтобы никогда не потерять, пусть даже мертвую.
В силу этого примитивного механизма сепарация с объектом просто невозможна: инкорпорация не дает субъекту возможность негативировать присутствие другого внутри себя и пользоваться своими желаниями. Как раз напротив, Фауста становится воплощением желания матери – смертижелания – отдавая свое тело в качестве могилы. Николас Абрахам и Мария Торок писали об инкорпорации как о симулятивной инсталляции утраченного объекта в тело субъекта, как «контейнер для страдания», который они назвали «криптой», местом захоронения.
«От горя я кричала, моля убить меня и закопать вместе с моим Хосефо… Я не хотела больше жить на этом свете…» – эти слова матери превращаются в формулу фантазма, в котором сингулярный закон желания матери конституирует судьбу дочери.
Все усугубляется провалом функции отца, который открыт слишком рано, открыт убитым и проглоченным. Субъект оказался зажат: мертвой матерью и мертвым отцом. В фильме единственным спасением для Фаусты становится знакомство с садовником, который олицетворяет «живого» отца, иного, способного «растворить» внутри эту мертвую мать, помочь сепарации от ее желания.
Фильм «Молоко скорби» – «образцовое кино скорби», как сказал Драган Куюнджич о фильме «Двойная жизнь Вероники» Кесьлевского: «…в развертывании такого кино во времени, в его темпоральности все связано с трауром, или, если перефразировать Дидро, со смертью, т.е. «с ожиданием друг друга у пределов истины». Самое что ни на есть «свое», сокровенное «Я», самость конституируются смертью Другого, уходом, память о котором продолжает жить во мне…»[3]
Список использованной литературы:
- Андре Грин. Мертвая мать [электронный ресурс] – Режим доступа: https://psychoanalysis.by/2018/04/10/article-psychoanalysis-11/
- Зигмунд Фрейд. Скорбь и меланхолия. [электронный ресурс] – Режим доступа: https://freudproject.ru/?p=796
- Кристева Юлия. Черное солнце: Депрессия и меланхолия/Пер. с фр. – М.: Когито-Центр, 2016. -276 с.
- Мария Торок. Работа горя. Болезнь траура и фантазм чудесного трупа [электронный ресурс] – Режим доступа: https://psychoanalysis.by/2019/05/24/
- Розенберг Бенно. Мазохизм смерти и мазохизм жизни/Пер. с фр. – М.: Когито-Центр, 2018. – 212 с.
- Серж Лебовиси. Фантазийное взаимодействие и трансгенерационная передача//Уроки французского психоанализа: Десять лет французских клинических коллоквиумов по психоанализу/Пер. с. фр. – М.: «Когито-Центр», 2007. – 560 с.
- Genevieve Morel. The Law of the mother. An Essay on the sexual sinthome/Genevieve Morel. – Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2019. – 330 p.
- Nocolas Abraham, Maria Torok. The Wolf Man’s Magic Word: A Cryptonymy/ Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986. — 133 p.
[1]Андре Грин. Мертвая мать [электронный ресурс] – Режим доступа: https://psychoanalysis.by/2018/04/10/article-psychoanalysis-11/
[2] М. Торок «Работа горя. Болезнь траура и фантазия чудесного трупа»
[3] http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/116/